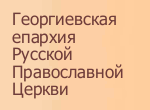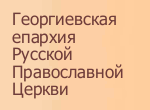|
[1-5]
Митрополит Анастасий (Грибановский)
Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви
Когда 29 января 1837 года скончался Пушкин, вся Россия облеклась в траур. Поминая его ныне, сто лет спустя (выход в свет настоящего очерка был приурочен к столетию со дня смерти великого поэта), мы совершаем свой национальный праздник, который разделяет с нами весь мир. Так смерть явилась для него началом бессмертия. Каждый великий народ имеет своего великого поэта, являющегося высшим выражением его творческого духа. Мы должны быть вечно благодарны Провидению, пославшему нам такого человека в лице Пушкина. По всеобъемлющей силе своего дарования, по благоухающей красоте своей поэзии, по богатству, гибкости и выразительности языка и тонкому чувству гармонии и меры, проникающему все его творчество, он стоит наравне с величайшими художниками мира.
Поэт и творец Божией милостью, он сам явился Божией милостью и благословением для Русской земли, которую увенчал навсегда своим высоким лучезарным талантом.
Истинный гений бессмертен. Он не знает над собою закона забвения и давности. Целое столетие уже отделяет нас от смерти нашего великого поэта, но он жив в каждом из нас. Если бы можно было разложить наш внутренний мир на его составные части, то в этой сложной психологической ткани мы нашли бы много золотых нитей, вплетенных в нее мощным пушкинским гением, ставшим неотъемлемой частью нашего духовного существа.
Сколько поколений воспитывалось на нем, приникая к родникам его творчества, и, однако, он остался неисчерпаемым как океан, и даже как будто растет и расширяется для нас вместе со временем.
Его дарование лилось, так сказать, через край, как вода из переполненного сосуда. Прожив на земле только 37 лет, он успел оставить нам такое духовное наследство, что обогатило нас на все века и сделало его неумирающим учителем и вдохновителем для всех последующих поэтов и писателей. Он, как великан, возвышается над ними и, как пеликан, питает их своею кровью. И Гоголь, и Толстой, и Достоевский родились от его великого духа, воспламененные огнем его творческого вдохновения. Его мысль проникает во все области человеческого духа, озаряя их ярким светом, как молния. Сросшаяся с ней органическая художественная форма делает ее особенно яркой и выпуклой. Его стих - это пышная царственная одежда, блистающая чистым золотом и самоцветными камнями. Он ласкает не только наш внешний, но и внутренний слух, доказывая тем, что Пушкин и мыслил музыкально, как подобает истинному поэту. Подобно всем великим гениям, он поднялся на такую высоту, откуда он светит всему миру и где национальное уже претворяется в общечеловеческое.
Пушкин есть "всечеловек" по преимуществу, как ощутил и определил его в свое время другой великий русский писатель - Достоевский [1]. Однако он плоть от плоти нашей, кость от костей наших; в нем каждый из русских людей невольно опознает самого себя, и это только потому, что он воплотил в себе всю Русь, которую возлюбил всем сердцем. Все, что украшает русскую народную душу - равнодушие к суетным земным благам, тоска по иному, лучшему граду, неутолимая жажда правды, широта сердца, стремящегося обнять весь мир и всех назвать своими братьями, светлое восприятие жизни как прекрасного дара Божия, наслаждение праздником бытия и примиренное, спокойное отношение к смерти, необыкновенная чуткость совести, гармоническая цельность всего нравственного существа, - все это отразилось и ярко отпечаталось в личности и творчестве Пушкина, как в чистом зеркале нашего народного духа.
Богатство его державного русского языка ни с чем не сравнимо. Как некий царь, он рассыпает перед нами свои словесные перлы, полные блеска, изящества и вместе и благородной простоты, чуждой всякой напыщенной искусственности.
Пушкин ко всему подходит просто и естественно, как это искони свойственно русскому сердцу. У него нет предвзятых тенденций, как у Толстого и Достоевского, стремящихся подчинить им своего читателя. Он не пытался насиловать свой талант и не "мудрствовал лукаво": поэтому ему открыто было более, чем кому-либо из других наших поэтов. Он берет всю действительность такою, "какою Бог ее дал". Он созерцает и зарисовывает ее картины спокойно и объективно, как истинный художник. Отсюда какая-то детская непосредственность, ясность и чистота его созерцания, акварельная легкость и прозрачность его рисунка, делающие его творения одинаково доступными всем возрастам. Мы воспринимаем его образы также просто и непосредственно, как саму природу. Это и есть та простота гениальности или гениальность простоты, какая особенно свойственна нашему поэту.
Вместе с художественной правдой Пушкин ищет везде и всюду правду нравственную, ибо одна неотделима от другой. Он всегда стремится быть искренним и с самим собою, и с своим читателем, что также составляет печать гения, как сказал еще Карлейль [2]. Искренность сердца, издавна присущая русскому человеку, порождает в нем и другую чисто русскую черту - смирение. А смирение возвышает его и самое его творчество, к которому он питал какое-то высокое, поистине религиозное благоговение. Он не только не превозносился своим гениальным дарованием, а скорее смирялся перед его величием. Вдохновение, посещавшее его в минуты поэтического озарения, приводило его в священный трепет и даже "ужас", он видел в нем "признак Бога", озарявший, очищавший и возвышавший его душу. Внемля "сладким звукам" Небес и созерцая сияние вечной божественной красоты, он подлинно в эти минуты "молился" сердцем и, свободный и счастливый, радовался своему духовному полету, возносившему его над всем миром.
Только такое трепетное отношение к данному ему свыше таланту могло внушить ему стихотворение "Пророк", которое справедливо считается одним из величайших его творений по силе художественного и духовного проникновения. Пушкин заимствовал свой образ из книги Пророка Исаии он глубоко и искренно воспринял его в свое сердце, доложив его к своему собственному поэтическому призванию. Поэт, по мысли Пушкина, как и пророк, получает свое помазание свыше, и очищается, и как бы посвящается на свое служение тем же небесным огнем. Столь же высоки и нравственные обязательства, возлагаемые на него его исключительным дарованием: он должен быть орудием воли Божией ("исполнись волею Моей") и своим вдохновенным глаголом жечь сердца людей. На такую высоту религиозного созерцания вознес Пушкина его светлый гений. Таков, впрочем, искони характер истинной поэзии: она всегда была "религии небесной сестра земная", как сказал некогда Жуковский [3]. Родившаяся из религиозных гимнов, она продолжает звучать высокими небесными мелодиями и тогда, когда перестала служить непосредственно религиозным целям. Ее сфера - это идеальный мир, полного воплощения которого нельзя найти на земле; здесь нам сияют только его отдаленные отблески. Устремление к горним высотам и вечному солнцу истины и красоты и составляет подлинную душу поэзии: это есть "божественный пафос", по слову Белинского, в котором наше сердце бьется в один лад со вселенной, в котором земное сияет небесным, а небесное сочетается с земным.
Чем ярче и светлее был поэтический дар Пушкина и чем бережнее и совестливее он относился к последнему, тем более он был чуток к "прикосновению Божественного глагола" и тем глубже сознавал свое призвание как божественное посланничество и своеобразное "пророчество", совершающее свою "священную жертву".
"Сны поэзии святой" представлялись ему как бы некоторым откровением, посещавшим его по особому велению свыше, помимо его собственной воли.
Муза - это поэтическое олицетворение его творческого дара - слетала к нему, как некая таинственная чудесная гостья, "оживляя" его свирель "божественным дыханием и сердце исполняя святым очарованием". Эпитеты "божественный и святой", которыми так часто пользуется Пушкин в применении к своему поэтическому вдохновению, не были только красивой метафорой: в них скрывается глубокий сакраментальный смысл, подлинное ощущение духовной связи поэта с иным, потусторонним миром. Не напрасно он требовал от своей музы такой отрешенности от мира, при которой она оставалась бы всегда только "велению Божию послушной", приемля равнодушно "хвалу и клевету" людей.
Таков был наш великий поэт на вершинах своего творчества: он подлинно был тогда религиозен, переживал какое-то особое, трепетное мистическое состояние, невольно передающееся каждому из нас при чтении его наиболее глубоких и проникновенных творений.
Но Пушкин был не только поэт, но и человек, и потому ничто человеческое не было чуждо ему. Спускаясь с горних творческих высот и погружаясь в заботы и наслаждения "суетного света", он утрачивал свой дар духовного прозрения. Его обезкрыленный ум, еще недостаточно дисциплинированный в юности, но отравленный в значительной степени ядом вольтерианства, не мог тогда собственными силами осмыслить мировую жизнь и разрешить все сложные загадки бытия. Отсюда началась для него трагедия оскудения веры, какую так глубоко изобразил он в своем раннем стихотворении "Безверие". Его мучила особенно тайна смерти, неразрешимая без утешительного света религии.
Он считал, однако, такое нравственное состояние ничем другим, как болезнью души и потому призывал снисходительнее и участливее относиться к тем, кто "с первых лет безумно погасил отрадный сердцу свет". Неверующий сам в себе носит свою кару:
Кто в мире усладит души его мученья?
Увы! Он первого лишился утешенья!
|
Постоянное возбуждение, поддерживаемое в нем пылом "африканских" страстей, неудовлетворенностью своим материальным положением, столкновениями с правительством и враждебными ему критиками, всего менее способствовали спокойной работе его испытующей мысли, искавшей выхода на истинный путь. В такие моменты временно как бы помрачался его светлый гений и его гармоническая лира издавала диссонирующие звуки. Будучи "зол на весь мир", он рад был бросить вызов и правительству, и обществу резкими и желчными литературными выступлениями и другими легкомысленными поступками, приводившими в отчаяние как его отца и других родственников, так и его покровителей и друзей: Карамзина, Жуковского, Вяземского, Тургенева. Под таким настроением душевной дисгармонии и рождались обыкновенно его язвительные политические памфлеты, эпиграммы и кощунственные стихотворения, оскорблявшие религиозные чувства верующих и стяжавшие ему печальную репутацию безбожника, от коей его имя не может освободиться даже до настоящих дней.
Однако неверующим его могут считать только люди тенденциозно настроенные, которым выгодно представить нашего великого национального поэта религиозным отрицателем, или те, кто не дал себе труда серьезнее вдуматься в историю его жизни и творчества.
Уже по одному тому, что наиболее вменяемые в вину Пушкину "кощунства" - "неизменно шуточные", по справедливому замечанию Ходасевича [4], "а не воинствующие", что "их стрелы неядовиты и неглубоко ранят" (С. фон Штейн. Пушкин-мистик. Историко-литературный очерк. Рига, 1931, с. 29), следует признать, что они были скорее случайной вспышкой озлобленного ума или просто легкомысленной игрой воображения юного поэта, чем его внутренним сознательным убеждением: они скользили по поверхности его души и никогда не имели характера ожесточенного богоборчества. Рассматриваемые с точки зрения того времени, его "кощунства" не выходили из уровня обычного для этой эпохи неглубокого вольнодумства, бывшего бытовым явлением в русском образованном обществе конца XVIII и начала XIX века, воспитанном на идеях Вольтера и энциклопедистов. Пушкин заплатил в этом отношении дань духу своего века не больше, чем другие его современники. Но если его вольные стихотворения обращали на себя большее внимание, то именно потому, что они отвечали общему настроению умов и что он сам был слишком заметен среди других рядовых людей, вследствие чего каждое его слово разносилось эхом по всей России. В этом случае ему оказывали часто плохую услугу не только его враги, но и нескромные друзья, повсюду распространявшие его творения. Лично он не был склонен заниматься активной пропагандой безбожия: об этом свидетельствует тот исторический факт, что он не только не пытался предавать печати свои соблазнительные стихотворения, но стремился всячески изъять их из обращения даже в рукописных их копиях, стыдясь их легкомысленного содержания и желая пресечь все пути к их распространению в широком обществе. Бартенев сообщает со слов современников поэта, что он особенно раскаивался в своей известной кощунственной поэме, написанной на евангельский текст, "всячески истребляя ее списки, выпрашивал, отнимал и сердился, когда ему напоминали о ней". "Уверяют, - пишет Бартенев, - что он позволил себе сочинить ее только из молодого литературного щегольства. Ему хотелось показать своим приятелям, что он может в этом роде написать что-нибудь лучше Вольтера и Парни!" (В.В.Вересаев. Пушкин в жизни). По словам князя Урусова, он без сожаления сжег, по совету своего товарища князя Горчакова и при его содействии, составленную им в подражание Баркову поэму "Монах", которая могла бы оставить пятно на его памяти (у Вересаева с. 31).
Нельзя преувеличивать значение вызывающих антирелигиозных и безнравственных литературных выступлений Пушкина также и потому, что он нарочито надевал на себя иногда личину показного цинизма, чтобы скрыть свои подлинные глубокие душевные переживания, которыми он по какому-то стыдливому целомудренному внутреннему чувству не хотел делиться с другими. В этом можно убедиться из характеристики, какую дают ему многие из наиболее беспристрастных и наблюдательных современников. Казалось, он домогался того, чтобы другие люди думали о нем хуже, чем он есть на самом деле, стремясь скрыть "высокий ум" "под шалости безумной легким покрывалом". В этой черте его характера некоторые исследователи (например, проф. Франк) [5] справедливо видят проявление некоторого юродства, этой типичной особенности русской народной души, нашедшей себе место и в характере нашего великого национального поэта. Впрочем, нельзя отрицать и того, что в нем иногда жили как бы два человека, находившихся в трагической борьбе между собою. Лучшая часть его природы звала его к "Сионским высотам", а "грех алчный гнался за ним по пятам" [6]. Источником его искушений, по признанию самого поэта, был умный дух - "Демон", начавший "навещать" его в юные годы, чтобы помрачать его высокие и святые идеалы и вносить расстройство в его гармоническую поэтическую душу.
"Печальны были наши встречи", - признается потом с сожалением поэт:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел -
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.
|
(Это глубокое стихотворение навеяно было Пушкину скептическим образом А. Н. Раевского, с которым он поддерживал тесную дружбу, так же, как Гете в свое время нарисовал своего Мефистофеля с одного из своих друзей. Лермонтов использовал его для своей знаменитой поэмы "Демон", которого он изображает теми же чертами.).
Когда впоследствии в минуту раскаяния поэт "с отвращением читал жизнь свою", "трепетал и проклинал", "горько жаловался и горько слезы лил", желая как бы смыть ими навсегда "печальные строки" прошлого, то, может быть, он разумел здесь и эти внушенные ему "демоном" вольные соблазнительные стихи, как и многое другое из произведений его незрелой юности, что он считал недостойным его таланта и хотел бы после "уничтожить".
Переживая мучительный кризис от своих сомнений, он болезненно искал выхода из этого положения, стремясь прояснить для себя окутывавший его туман и ища для себя точки нравственной опоры. Он чувствовал, что без идеи Божества все его мировоззрение становится зданием без фундамента, но его роковая ошибка состояла в том, что он сначала только "умом искал Божества". Неудивительно, что "сердце", как казалось поэту, "не находило его", так как одни отвлеченные умствования без живой веры не могли дать ему покоя и удовлетворения.
В своих беспокойных исканиях он бросался, так сказать, во все стороны и черпал из всех источников религиозных знаний, не только положительных и здоровых, но и отрицательных, способных только усилить его духовную жажду. Наиболее острый момент его душевного кризиса совпал, по-видимому, с днями его пребывания в Кишиневе и Одессе (1821-1824). Углубляясь в изучение Библии, читая внимательно Коран, беседуя в Одессе с интересом с религиозным мыслителем и писателем Стурдзою [7] он встретился здесь же и с "глухим философом" англичанином Гетчинсоном [8], от которого стал брать уроки "чистого", т. е. теоретического атеизма. Об этом он сам сообщает в письме своем к неизвестному своему другу, жившему в Москве, письме, оказавшем столь важное влияние на его последующую судьбу и вызвавшем его новую ссылку в Михайловское. На этом роковом письме и базируется, главным образом, доныне обвинение Пушкина в безбожии. Надо, однако, внимательно читать его собственные слова, чтобы сделать из них ясный и точный вывод. Профессор Франк справедливо отмечает, что 1) Пушкин считает своего учителя-англичанина "единственным умным "афеем", которого он встретил" (другие, очевидно, не заслуживали такого наименования), что 2) "система его мировоззрения не столь утешительна, как обыкновенно думают", "хотя к несчастью более всего правдоподобная". Надо подчеркнуть и это последнее слово, как свидетельствующее о том, что эта безотрадная система казалась поэту только правдоподобной, но отнюдь не несомненной. Следовательно, она не разрешала всех его сомнений, хотя и могла временно повлиять на направление его мыслей (С.Франк. Религиозность Пушкина. "Путь", № 40, с. 28). Что она не покорила всецело его ума и сердца, об этом говорит его признание в том же письме, что "Дух Святой", т. е. слова Библии, ему "иногда по сердцу", т. е. доставляли ему духовную усладу. Такого духовного созвучия с Библией не могло быть у убежденного атеиста, для которого ненавистно само имя Божие, он бежит от него, как Мефистофель от креста, будучи способен только хулить все высокое и святое. Холодное отрицание не могло вообще захватить вполне Пушкина уже потому, что оно опустошает душу, суживает умственный горизонт и иссушает родники всякого и особенно поэтического творчества, а поэтическое вдохновение было для него священным призванием и украшением его жизни, это была душа его души.
Увлекшись на короткое время чисто теоретически отрицательными уроками англичанина-философа, Пушкин потом отрекся от своего "легкомысленного суждения относительно афеизма" (Прошение на Высочайшее имя, т. е. императора Николая I в 1826 г.), которое он ранее в своем "Воображаемом разговоре с императором Александром I" назвал прямо "школьнической шуткой" и удивлялся, как можно было "две пустые фразы" дружеского письма рассматривать как "всенародную проповедь". Это признание, несомненно, было искренним, потому что оно повторяется и в некоторых его письмах к друзьям. В одном случае он прямо называет сказанное им об атеизме - "глупостью", а в письме к Жуковскому "суждением легкомысленным и достойным всякого порицания".
Уроки неверующего наставника не могли оставить в нем глубокого следа, так как его трезвый, проницательный ум не мог не понять, что "сумма вероятностей атеизма сводится к нулю, а нуль только тогда имеет реальное значение, когда пред ним стоит цифра. Этой-то цифры и недоставало моему профессору атеизма". Изучая вместе с англичанином Локка, он обратил особенное внимание на высказанную последним мысль, что "вопрос веры превосходит разум, но не противоречит ему" (Записки А.О.Смирновой. Из записных книжек 1826-1845 гг., СПб., 1894, с. 161-162). Впрочем, и сам учитель Пушкина Гетчинсон был, по-видимому, далеко не убежден в том, что проповедовал другим: через пять лет он был уже ревностным пастором в Лондоне.
Очень характерно, что в письме своем к Казначееву, правителю дел графа Воронцова, Пушкин, уже успевший разочароваться в своем наставнике, прямо называет своего учителя "прощелыгой" (galopin), а его уроки "пошлой болтовней" [9] (В.В.Никольский. Нравственные идеалы Пушкина. - "Христианское чтение", 1882 г., с. 50).
Переживая по временам "бурю сомнительных помышлений", Пушкин, однако, ни в Кишиневе, ни в Одессе не отрывался от общего уклада жизни того времени, где религия и Церковь занимали если не господствующее, то, во всяком случае, почетное положение.
Вместе с благочестивым своим начальником Инзовым он аккуратно посещал богослужения в Митрополии, исполняя в положенное время и долг говения. Если он и говорит при этом о своем "лицемерии", то это обычный для него язык шутливого юродства и, быть может, скрытого самоосуждения. Он по-прежнему ревниво таит от нескромного чужого взгляда внутреннюю келию своего сердца. Следующий факт очень характерен в этом отношении.
В Кишиневе по желанию Инзова его посещал иногда для духовных бесед ректор духовной семинарии архимандрит Ириней [10]. "Раз в Страстную пятницу, - рассказывала потом его племянница, - входит дядя в комнату Пушкина, а он сидит и что-то читает. "Чем Вы занимаетесь?" - спросил дядя, поздоровавшись. "Да вот читаю историю одной статуи". Дядя посмотрел на книгу, а это было Евангелие". Архимандрит Ириней "вспылил и рассердился" и даже обещал подать на него рапорт, не поняв, очевидно, внутренних побуждений, вызвавших такой странный ответ Пушкина. "Зачем Вы так сделали?" - спросил архимандрит, когда на другой день Пушкин приехал к нему с извинением. "Да так, с языка слетело", - был простодушный ответ поэта". (Рассказ П. В. Дыдыцкой у Вересаева, с. 125).
В Одессе он особенно любил посещать Пасхальную утреню и звал с собой товарищей услышать голос русского народа в дружном одушевленном ответе молящихся на христосование священника: "Воистину воскрес".
Для объяснения такой кажущейся двойственности в духовных настроениях Пушкина неизлишне вспомнить рассуждения, какими он сопровождает анекдот о Байроне, который при своем видимом вольнодумстве чрезвычайно дорожил, однако, крестом, подаренным ему одним монахом в Афинах: "Душа человека, - пишет он, - есть недоступное хранилище его помыслов... И как судить о свойствах и образе мыслей человека по наружным его действиям? Он может по произволу надевать на себя личину порочности и добродетели. Часто по какому-либо своенравному убеждению ума своего он может выставлять напоказ толпе не самую лучшую сторону своего нравственного бытия, часто может бросать пыль в глаза одними своими странностями". "Видно из этого случая, - прибавляет Пушкин, - что вера внутренняя перевешивала в душе Байрона скептицизм, высказываемый им местами в своих творениях. Может быть даже, что скептицизм сей был только временным своенравием ума, иногда идущего вопреки убеждению внутреннему веры душевной".
Нельзя не видеть здесь личной исповеди поэта, душа которого была созвучна в этом случае характеру Байрона; не напрасно он чувствовал невольное тяготение к последнему, особенно в первый период своего литературного творчества.
Последовательный скептицизм должен был быть органически чужд его душе, проникнутой с детства мистическим настроением. В этом отношении он также был сын своей эпохи, эпохи великих потрясающих событий, в коих невольно чувствовалось действие неземной Высшей силы, управляющей судьбами народов, торжества идеи Священного Союза, расцвета масонства и широкого увлечения мистической проповедью Лабзина, Крюденер и Татариновой [11], в которых обнаружилась реакция в отношении к революционному рационализму конца XVIII века.
Мистическое настроение, впрочем, было наследственным в роде Пушкиных. Оно перешло к поэту от его отца Сергея Львовича, библиотека которого была наполнена произведениями мистических писателей того времени (см. С. фон Штейн. Пушкин-мистик. Историко-литературный очерк. Рига, 1931, с. 21). Известную долю влияния на него в смысле укрепления этого настроения мог иметь и его благодушный начальник во время бессарабской ссылки генерал Инзов, которого поэт сам называет "добрым мистиком". Будучи старым масоном, последний был в то же время и преданным сыном Православной Церкви: в Александровскую эпоху то и другое иногда легко уживалось вместе.
Пушкин был суеверен в жизни, как самый простой русский человек. Он верил в народные приметы, в таинственное действие талисманов, в вещие сны и предсказания ворожей и гадальщиц. Особенно глубокое впечатление произвели на него слова, сказанные ему еще в юности немкой-гадалкой Кирхгоф о том, что он приобретет большую славу и может погибнуть 37 лет от белой лошади или белой головы. С тех пор всю жизнь избегал он встречи с белокурыми людьми. Автор исследования "Пушкин-мистик" С. Штейн видит много мистических струй в самом романтизме пушкинской поэзии, что не мешало ей оставаться вполне трезвой и ясной. Устремление к миру таинственного и непостижимого вместе с .постоянной мыслью о смерти, сопровождавшею его неотступно всюду, не могли не роднить Пушкина с религиозной стихией, где все обвеяно тайной и обращено к вечности. Однако присущее ему от природы мистическое предощущение потустороннего мира только создавало благоприятную почву для восприятия религиозных идей, но, смутное и неясное по существу, оно не могло само по себе дать ему, конечно, твердого, обоснованного, законченного религиозного мировоззрения, которого тревожно искала его возвышенная, идеалистически настроенная душа и которое ему пришлось вырабатывать вполне самостоятельно. Он не мог почти ничего получить для прояснения и укрепления своих религиозных взглядов ни из воспоминаний своего детства, прошедшего в атмосфере разлагающих иноземных влияний, ни из преданий своей семьи, никогда не отличавшейся глубокой религиозностью. Еще менее могла дать ему религиозного содержания окружавшая его лицейская и светская среда, потому что сама лишена была последнего.
То, что могла внушить ему его знаменитая няня Арина Родионовна в смысле бытового благочестия, было недостаточно, чтобы утвердить его среди рано проснувшихся искушений разума, а уроки его первого московского наставника в Законе Божием О.Беликова, равно как и лицейских законоучителей, о.Музовского и о.Мансветова (очень строгого), не оставили в нем, по-видимому, глубокого следа, потому что он никогда не вспоминал о них потом.
Процесс его религиозного развития проходил, однако, с изумительной быстротой; он гораздо раньше, чем в свое время Толстой и Достоевский, понял, что без религии жизнь не имеет смысла и оправдания и что к постройке религиозного мировоззрения нельзя приступать только с таким слабым орудием, каким является наш колеблющийся рассудок; необходимо указание внутреннего духовного опыта, дыхание веры, "инстинкт которой присущ каждому человеку" и прикосновение к родной русской земле, от которой много заимствовали в смысле своего нравственного воспитания и наши последующие великие писатели.
Происшедший в нем нравственный перелом, озаривший его жизнь и его творчество новым светом, начал проявляться еще в кишиневский и одесский периоды его жизни, но постиг своего полного развития только во время последующего пребывания в тиши Михайловского деревенского уединения. Эта вторая ссылка, приводившая по временам в отчаяние самого поэта, имела для него. провиденциальное значение. Почти все его биографы признают, что она способствовала его духовному росту и была в этом смысле столь же благодетельной для него, как для Достоевского заключение в "Мертвом доме".
Не развлекаясь опьяняющими светскими удовольствиями, поглощавшими почти все его время и внимание в Петербурге, он мог здесь глубже заглянуть в самого себя, в душу простого народа, в заветы и уроки родной истории и внимательнее заняться своим самообразованием. Все это вместе углубило его дух, освежило и расчистило родники его творчества. Здесь он впервые вошел и в живое непосредственное общение с Церковью через братию Святогорского монастыря и окрестное духовенство. Оно началось при нравственно тяжелых для него обстоятельствах. Настоятелю Святогорского монастыря игумену Ионе - старцу святой жизни, по свидетельству современников, и священнику из с.Воронич, Иллариону Евдокимовичу Раевскому, по прозванию Шкода, было поручено духовное наблюдение за ним в виду тяготевшего над ним обвинения в безбожии. Тот и другой оказались для него любящими духовными врачами и легко покорили его чуткую, отзывчивую душу.
Посещая каждую субботу монастырь, Пушкин научился уважать его настоятеля-подвижника и искренно полюбил о.Шкоду, который сам обычно приезжал навещать его. Об искренней его дружбе с последним свидетельствует бесхитростный рассказ его дочери, недавно сравнительно скончавшейся Акулины Скоропостижной, записанный с ее слов.
"Подъедет это верхом к дому и в окошко плетью цок: "Поп у себя?" - спрашивает... А если тятеньки не случится дома, завсегда прибавит: "Скажи, красавица, чтобы беспременно ко мне наведался... Мне кой о чем потолковать с ним надо". ...Коли нет, да долго не виделись - сердится: "Что он ко мне уже три дня не едет?" ...Благодетелем он нашим был, Александр Сергеевич... Однажды возьми и подари папеньке семь десятинок".
На предложение о.Иллариона оформить дар, Пушкин сказал: "..."Никто от вас моего подарка не отнимет" (Разговоры Пушкина, собранные Гессеном и Модзалевским. М., 1929, с. 62-63).
Этому о.Шкоде он заказал отслужить заупокойную литургию по Байрону, после которой послал просфору князю Вяземскому.
Особенно ценно было для Пушкина постоянное соприкосновение с Святогорским монастырем как хранителем заветов старого русского благочестия, духовно питавшим множество людей, черпавших от него не только живую воду веры, но и духовную культуру вообще. Наблюдая воочию эту тесную нравственную связь народа с монастырем и углубляясь в изучение истории Карамзина и летописей, где развертывались перед ним картины древней аскетической Святой Руси, Пушкин со свойственной ему добросовестностью не мог не оценить неизмеримого нравственного влияния, какое оказывала на наш народ и государство наша Церковь, бывшая их вековой воспитательницей и строительницей.
На почве расширенного духовного опыта поэта и углубленных исторических познаний родился весь несравненный по красоте духовный и бытовой колорит драмы "Борис Годунов", которую сам автор считал наиболее зрелым плодом его гения (хотя ему было в то время только 25 лет), и особенно "смиренный и величавый" образ Пимена, которого не могут затмить другие действующие лица драмы. Пимен - это не просто художественное изображение, сделанное рукою великого мастера: это живое лицо, которое трогает, учит и пленяет читателя, подчиняя его своей тихой, кроткой, но неотразимой духовной власти. Он вышел из самого сокровенного горнила творчества Пушкина, который слился с ним в муках духовного рождения, как мать со своим ребенком. Не напрасно он говорит, что "полюбил своего Пимена", плененный сам его духовной красотой. В нем поэт дал самый законченный, самый выпуклый и самый правдивый тип православного русского подвижника, какой только был когда-нибудь в нашей художественной литературе. Он не просто зарисован вдохновенным художником, но как бы высечен из мрамора мощным резцом скульптора, чтобы стать наиболее осязаемым для нас. Не потому ли Антокольский так легко воплотил его в своей известной статуе, а Достоевский говорил, что о нем одном можно написать несколько томов? Его монолог и его речи, обращенные к бурному Гришке Отрепьеву, полны того бесстрастия, мира и "умилительной кротости, младенческого и вместе мудрого простодушия, набожного усердия к власти царя, данного Богом, и совершенного отсутствия суетности", которые пленяли поэта в наших древних летописцах.
Пушкин уразумел своим русским чутьем, что здесь запечатлена от века лучшая часть нашей народной души, видавшей в монашестве высший идеал духовно-религиозной жизни. Ее неутомимая тоска по горнему отечеству находила отклик в его собственном сердце, звавшем его туда, "в заоблачную келью, в соседство Бога Самого". Уже одним этим своим чудным и возвышенным образом, вышедшим из народной стихии и снова воплощенном в нее гением поэта, он искупил в значительной степени нравственный соблазн, который он мог посеять вышеуказанными своими легкомысленными произведениями.
Рядом с этим неумирающим наставником-иноком, уроки которого вошли в плоть и кровь целого ряда русских поколений, можно поставить только огненный образ "Пророка", представляющий из себя почти единственное явление в мировой литературе, как апофеоз призвания поэта на земле. Замечательно, что он возник у Пушкина не в каком другом месте, а именно в Святогорском монастыре, т. е. в той же духовной атмосфере, которая дала плоть и кровь Пимену.
 |
Примечания
|
Анастасий (Грибановский, 1873-1965),. митрополит, первоиерарх Русской Православной Церкви за границей (1936-1964).
Воспитанник Московской Духовной академии, там же возведен в сан иеродиакона и иеромонаха (1898). С 1901 г. - преподаватель, а затем ректор Московской Духовной семинарии; в 1906 г. - хиротонисан во епископа Серпуховского, 4-го викария Московского митрополита. В 1914 г. - епископ Холмский и Люблинский, с конца 1915 г. - Кишиневский и Хотинский. Участник Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг.. В 1919 г. эмигрировал за границу с митрополитом Антонием (Храповицким). Видный деятель заграничных Церковных Соборов, начиная с Первого (Сремские Карловцы, 1921). В 1936 г. митрополитом Антонием (Храповицким) возведен в сан митрополита. Богословские творения владыки изданы в 4 тт.
Работа "Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви" написана владыкой Анастасием к 100-летней годовщине гибели поэта. Впервые напечатана в Югославии в 1939 г. В нашем сборнике воспроизведен текст 2-го издания (Мюнхен, 1947), как наиболее авторитетный. ^
|
1. Пушкин есть "всечеловек" по преимуществу... Владыка Анастасий пересказывает мысль Ф.М.Достоевского из очерка "Пушкин", больше известного как Пушкинская речь, произнесенная писателем 8 июля 1880 г. на заседании Общества любителей российской словесности, приуроченном к открытию в Москве памятника поэту. В своей речи Федор Михайлович, в частности, сказал: "Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти священном, а потому и чудесном, потому что нигде, ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-настоящему, и пророческое, ибо... ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что тут такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк...
Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловекам, если хотите". (Ф.М.Достоевский. ПСС., т. 26, изд. "Наука", Л., 1984, с. 146-147). ^
|
2. Корлейль Томас (1795-1881), английский писатель, историк и философ. В начале 30-х годов печатал в "Эдинбургском обозрении" цикл статей "Признаки времени", в которых явно просматривались его симпатии к консерватизму. Проповедовал т.н. "верующий радикализм", полагая в основу цивилизации нравственный долг. ^
|
3. Жуковский Василий Андреевич (1783-1852), поэт, придворный педагог, ближайший друг Пушкина. Митрополит Анастасий неточно цитирует выражение из драматической поэмы В.А.Жуковского "Камоэнс" (1839): "Поэзия небесной религии сестра земная" (См.: Соч. В.А.Жуковского. Изд. 8-е, под ред. П.А.Ефремова, т. III, СПб., с. 279) ^
|
4. Ходасевич Владислав Фелицианович (1886-1939), поэт, литературный критик: с 1922 г. находился в эмиграции. ^
|
5. Франк Семен Людвигович (1877-1950), философ социально-этического направления. В 1922 г. выслан из России, с 1930 по 1937 г. читал в Германии лекции по русской религиозно-философской мысли и литературе. В статье "Религиозность Пушкина" (впервые напечатана в журнале "Путь",Париж, 1933, № 40) С.Франк подметил: "Пушкин был истинно русской "широкой натурой" в том смысле, что в нем уживались крайности; едва ли не до конца жизни он сочетал в себе буйность, разгул, неистовость с умудренностью и просветленностью...
В нем был, кроме того, какой-то чисто русский задор цинизма, типично русская форма целомудрия и духовной стыдливости, скрывающая чистейшие и глубочайшие переживания под маской напускного озорства. Пушкин - говорит его биограф Бартенев - не только не заботился о том, чтобы устранить противоречие между низшим и высшим началом своей души, но "напротив, прикидывался буяном, развратником, каким-то яростным вольнодумцем". И Бартенев метко называет это состояние души "юродством поэта". ^
|
6.
Напрасно я бегу к Сионским высотам.
Грех алчный гонится за мною по пятам...
Так ревом яростным пустыню оглашая,
По ребрам бья хвостом и гриву потрясая,
И ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.
(1836) ^ |
|
7. Стурдза Александр Скарлатович (1701-1854), сын бывшего правителя Молдавии, чиновник Министерства иностранных дел и религиозный писатель. Его религиозные и политические взгляды отличает монархический характер. Пушкин общался с ним в Одессе (1821-1824). ^
|
8. Гетчинсон (Хатчинсон) Уильям (1793-1850), домашний врач в семье М.С.Воронцова, безбожник-"афей" (атеист). Весной 1824 г. Пушкин в письме, как выяснено теперь, к Вяземскому из Одессы сообщал (письмо при пересылке было перлюстрировано): "Ты хочешь знать, что я делаю - пишу пестрые строфы романтической поэмы <"Цыганы". - Сост.> и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственно умный афей, которого я еще встретил". Эти строки письма послужили основной причиной высылки Пушкина из Одессы в Михайловское. В "Воображаемом разговоре с Александром 1" (декабрь 1824) поэт в свое оправдание пишет: "...как можно судить человека по письму, писанному товарищу, можно ли школьную шутку взвешивать как преступление и две пустые фразы судить как бы всенародную проповедь?" (Подробнее о Хатчинсоне см.: Л.М.Ариншпайн. Пушкинский "Мефистофель". // Пушкинская эпоха и христианская культура. Вып. V. СПб., 1994. С. 30-41.) ^
|
9. Со временем поэт полностью избавился от разлагающего духа "афеизма". П.А.Анненков, первый биограф Пушкина, работая с подлинными его рукописями, заметил в своей монографии о нем:
"Религиозное настроение духа в Пушкине начинает проявляться с 1833 года теми превосходными песнями, основание которым положило стихотворение "Странник", написанное летом того же года, как знаем. Стихотворение это, составляющее поэму само по себе, открывает то глубокое духовное начало, которое уже проникло собой мысль поэта, возвысив ее до образов, принадлежащих по характеру своему образам чисто эпическим. Что это не было в Пушкине отдельной поэтической вспышкой, свидетельствуют многие последующие его стихотворения, как "Молитва", "Подражание итальянскому"... Лучшим доказательством постоянного, определенного направления служат опять рукописи поэта. В них мы находим, что он прилежно изучал повествования Четьих-Миней и Пролога, как в форме, так и в духе их. Между прочим, он выписал из последнего благочестивое сказание, имеющее сильное сходство с самой пьесой "Странник". Осмеливаемся привести его здесь.
"Вложи (диавол) убо ему [иноку. - Сост.] мысль о родителях, яко жалостию сокрушатися сердцу его, воспоминающих велию отца и матере любовь, юже к нему имеша. И глаголаше ему помысл: что ныне творят родители твои без тебя, яко неведающим им отшел оси. Отец плачет, мать рыдает, братия сетуют, сродницы и ближнии жалеют по тебе и весь дом отца твоего в печали есть, тебе ради. Еже воспоминаше ему лукавый богатство и славу родителей, и честь братий его, и различная мирская суетствия во ум его привождаше. День же и нощь непрестанно таковыми помыслами смущайте его яко уже изнемощи ему телом, и еле живу быти. Ово бо от великого воздержания и иноческих подвигов, ово же от смущения помыслов изсеше яко скудель крепость его и плоть его бе яко трость ветром колеблема".
В другой раз Пушкин переложил на простой язык, доступный всякому человеку, даже весьма мало искушенному в грамоте, повествование Пролога о житии преподобного Саввы игумена. Записка эта сохраняется в его бумагах под следующим заглавием: "Декабря 3, преставление преподобного отца нашего Саввы, игумена Святыя обители Пресвятой Богородицы, что на Сторожех, нового Чудотворца. (Из Пролога)". В 1835 году он участвовал и советом и, если не ошибаемся, самим делом в составлении "Словаря исторического о Святых, прославленных в Российской Церкви", который предпринял тоже один из бывших лицейских воспитанников. Когда вышла книга (в 1836 году), он отдал отчет о ней в своем журнале "Современник", где удивляется, между прочим, людям, часто не имеющим понятия о жизни того святого, имя которого носят от купели до могилы. Все эти свидетельства совершенно сходятся с показаниями друзей поэта, утверждающих, что в последнее время он находил неистощимое наслаждение в чтении Евангелия и многие молитвы, казавшиеся ему наиболее исполненными высокой поэзии, заучивал наизусть". (Анненков П.А. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. СПб., 1855, с. 386-387). ^
|
10. Ириней (Нестерович Иван Гаврилович) (1783-1864), архимандрит, с 1820 г. - ректор Кишиневской духовной семинарии, с 1830 г. - архиепископ Иркутский. ^
|
11. Лабзин Александр Федорович (1766-1825), масон, издатель "Сионского Вестника"; Крюденер (Криднер) Варвара-Юлия, баронесса (1764-1824), проповедница мистического суеверия; Татаринова Е.Ф., сектантка, устроительница мистического "всеконфессионального" кружка. ^
|
|